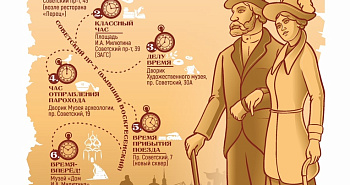В Художественном музее открылась выставка «Связующая нить» (0+), приуроченная к 125-летию Алексея Пахомова — выдающегося советского живописца, графика, скульптора, педагога и нашего земляка, уроженца Вологодской губернии.
Алексея Пахомова считают одним из главных мастеров книжной и станковой графики XX века. Он учился у ведущих художников своего времени, работал в Ленинграде, преподавал. Много занимался книжной иллюстрацией, широко известны издания книг с рисунками мастера. Например, обложку толстовского «Филипка» — книги, которую многие вспомнят из детства, — можно увидеть на выставке.
А когда-то таким Филипком был сам художник. Крестьянский сын из глубинки (деревня Варламово, ныне — Харовский округ) попал в большие художники почти по ломоносовским стопам.
«Моего отца ряд лет выбирали старостой, поэтому бумага в доме водилась, и скоро я пристрастился к рисованию, о чем пошла молва по окрестным деревням, — писал он незадолго до смерти в книге «Про свою работу». — Сначала учительница школы, что была в двух верстах от нашей деревни, пришла посмотреть на мальчика, который рисует, и уговорила отца посылать меня в школу, хотя мне было только шесть лет. А через какое-то время у нашего дома остановилась тройка с бубенцами, и из нее вышел известный во всей округе барин В. Зубов и попросил показать меня и мои рисунки».
Рисунки барину понравились, и он сначала подарил мальчику все необходимое для рисования, а потом отправил учиться — сперва в Кадников, а потом в Петроград. Так судьба навсегда связала Алексея Пахомова с северной столицей, в которой он спустя десятилетия пережил блокаду.
Череповецкая выставка раскрывает два важнейших направления его творчества — детство и блокаду. В первом зале представлены иллюстрации к книгам и журналам. Во втором — графика, созданная в годы блокады Ленинграда. За серию литографий «Ленинград в дни блокады» Алексей Пахомов был удостоен в 1946 году Сталинской премии второй степени. Его работы поражают живостью и неказенным восприятием.
«В работе над блокадной серией я делал очень мало набросков с натуры, — вспоминал он. — Больше наблюдал и запоминал. Вначале не было разрешения на зарисовки, а когда разрешение было получено, отважиться рисовать было не так-то просто. Население с таким недоверием и злобой набрасывалось на рисующего, видя в нем диверсанта и шпиона, что рисование превращалось в непрерывное объяснение. Подходил какой-нибудь военный и успокаивал недоверчивых, что-де удостоверение на зарисовки настоящее, а не поддельное. Но военный и успокоенные уходили, появлялись новые прохожие, и снова надо было объясняться и отбиваться. Но главная причина, конечно, была не в этих трудностях. Просто события были столь значительные, что, мне казалось, и отражены они должны быть не в легких набросках, а в форме наиболее монументальной (в пределах графического искусства): в проработанном эстампе большого формата».
Художник рассказывал, как он работал над рисунками о блокаде. Сначала к нему приходила идея композиции, которую он начинал вырисовывать. А потом в процессе выполнения обращался к натуре, чтобы сделать действующих лиц и пейзаж живыми и убедительными. «Хотелось изобразить все то новое, что принесла с собой война и блокада, — писал Алексей Пахомов. — Вид ленинградских улиц был необычным, исчезли трамваи, автобусы, автомобили, мало стало прохожих, появились снежные сугробы; там, где был всегда подметенный асфальт, появились люди с детскими саночками, везущие разную поклажу, люди в шубах и валенках на велосипедах».
Художник скончался в 1973 году, похоронен в Ленинграде. Среди его многочисленных наград, в основном творческих, есть медаль «За оборону Ленинграда».
Сергей Виноградов